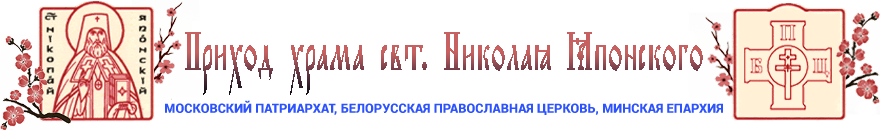Чего может бояться епископ и почему деятельное милосердие – обязательная часть жизни каждого христианина, вне зависимости от его статуса. Как утешить безутешного и что не допустимо для священника в общении с духовными чадами? Об этом и многом другом поговорили епископ Пантелеимон (Шатов) и Владимир Легойда в программе “Парсуна”.
«Парсуна» — авторская программа председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды.
Здравствуйте, уважаемые друзья, мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон. Владыка, дорогой, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо большое, что вы к нам пришли. Долго, долго я за вами гонялся. Владыка, на всякий случай я напомню вам, что у нас 5 частей в программе. Это связано с самым концом молитвы Оптинских старцев: «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Ну, о молитве я как-то не решаюсь говорить, но вот, начиная с веры… Еще согласно одному правилу, если позволите, я хотел бы начать с того, чтобы попросить вас ну не то чтобы представиться, поскольку зрители телеканала «Спас» точно вас знают прекрасно, и не только зрители телеканала «Спас», но вот сказать что-то такое о себе, что вы считаете самым главным. Вот вы кто?
Меня как-то спрашивали об этом…
Эх!
…психологи.
А-а.
Они говорили, что вот определите сами себя в пяти словах. И говорят, я потом узнал секрет, чем больше ты даешь определений, тем ты считаешься более разносторонней личностью.
Ага.
Более интересной личностью. И вот когда меня спросили, я назвал пять сразу каких-то слов, но я забыл какие уже.
Угу.
Я помню только два определения, вернее, даже, может быть, три. Ну да, я бы сказал про себя, что я, конечно, грешный, но все-таки епископ, ну еще дедушка, вот. Ну как-то так.
ВЕРА
Владыка, а вот в вашей жизни были моменты или периоды, которые вы могли бы назвать испытанием веры?
Конечно. Как мне кажется, вот жизнь в этом мире, она всегда испытывает нашу веру. Есть же мир, который искажен грехом, мир, который самим своим бытием отрицает Бога, потому что Бог — это совершенство, Бог — это любовь, а в мире много зла.
Угу.
Есть дьявол, который… ну главная его задача — исказить веру, если ее не уничтожить. И есть мы сами, с нашими грехами, с нашими недостатками, с нашими слабостями, с нашей ограниченностью. И поэтому, конечно же, и мир, и дьявол, и мы сами постоянно сами себе препятствуем, ну и сами себе, и воздействие этих двух других еще сил препятствует утверждению веры в нашем сердце.
А вот мы когда читаем молитву «Отче наш», когда человек произносит: «Да будет воля Твоя», вот он к чему должен быть готов? Вот это что означает?
Ну мы же говорим: «Да будет воля Твоя как на Небе…
Да.
…так и на земле».
На земле.
То есть чтобы на Небе воля Божия, она — красота, совершенство, любовь, она, ну жизнь.
Угу.
Вот здесь, на земле, чтобы также воля Божия, являясь, вела меня к этому… к Небу вела бы меня. Так мне кажется.
А все-таки, если вернуться вот к теме испытаний. Ну если вы не хотите, мы можем не говорить. Вот в этих испытаниях для вас что является самым сложным?
Самым сложным является, наверное, то, что я никак не могу исправиться. (Смеются.) Я думаю, что вот, я уже как, стал хорошим, вот уже все у меня нормально и вдруг — бац! (Смеются.) и что-то такое появляется. Я чувствую свое бессилие, и…
Бессилие по отношению к самому себе?
По отношению, ну по отношению к тому, чтобы быть всегда добрым, быть всегда любящим, быть всегда с Богом. Вот это самое трудное, наверное, ну еще бывает трудно пережить, конечно, когда ты видишь в другом человеке какое-то горе, беду, отчаяние, уныние. Бывает очень трудно, зная о том, что есть Бог, и видя темноту, мрак чьей-то души, очень бывает тяжело. Хочется помочь человеку. Хочется ему помочь выбраться из этого мрака.А это, бывает, не получается. И ты не можешь принять это, потому что ты знаешь, что есть Бог. Но тебе больно за этого человека. Ты не можешь как-то вычеркнуть его из своего сознания. Это, конечно, очень бывает тяжелое испытание.
Владыка, а вот ведь в современном мире, ну всегда, наверное, так, но в современном мире особенно, может быть, очень много таких людей, да. Может быть, даже не обязательно с темнотой, но которые вот они живут, как бы Бог не нужен. Я даже был, помню, у нас на «Спасе» в программе «Не верю» вот с Артемием Лебедевым. И он, в общем, говорит: «У меня нет никаких вопросов, я не против, я не атеист воинствующий. Но я, — говорит, — не понимаю, мне это просто не надо и все. Мой мир и так цветной». А вот как вы думаете, для таких людей можно найти какие-то слова? Или это вопрос того, что…
Я думаю, что для этих людей ничего найти нельзя.
Нельзя?
Нет. Нельзя, конечно. Ну, когда человеку не нужен Бог — Бог же приходит помочь нам, — а если человек не нуждается в Его помощи, конечно. Такие люди меня не очень беспокоят, потому что, я думаю, что Господь Сам с ними разберется. А вот когда человек страдает, мучается, переживает, когда он в таком вот, ну тяжело бывает быть рядом с ним, а особенно если это близкий человек, родной человек, дорогой тебе человек, от него нельзя отгородиться, он у тебя глубоко в сердце. И очень тяжело бывает вот пережить его вот это состояние. И не можешь ему помочь, и вот вместе с ним страдаешь. Ну это, наверное, так и нужно, может быть.
А здесь нет разве такого тоже… ну я, совершенно понятно все, что вы говорите. Но, с другой стороны, нет здесь такого как бы тоже несмирения, непринятия?
Наверно, конечно.
Да?
Да конечно, есть, конечно, есть. Здесь есть, мне кажется, здесь не только… я все время,
я вот научился, как говорить людям, которые жалуются на то, что у них дети неверующие, мужотошел от веры, или еще что-то такое случилось. Я говорю: «Знаете, надо молиться со слезами — до Страшного суда. Еще есть время».
До Страшного суда еще есть время. И вот это, это выход, конечно, из этого испытания, молитва — это выход. Хотя о молитве мы сегодня не будем говорить, но, наверное, молитва — это выход из этого тяжелого такого состояния.
Владыка, еще хотел вас спросить вот по поводу дел милосердия. Я где-то прочитал, мне очень понравилась такая мысль, что Господь в Евангелии себя никогда ни с кем не сравнивает, за одним только исключением: он говорит, что если вы это сделали одному из малых сих страждущих, то вы сделали это Мне. И это выводит дела милосердия, вот придает им совершенно особый статус. Вот вы бы с этим согласились или нет? Я почему еще спрашиваю, потому что очень часто говорят, что Церковь все-таки не для дел милосердия как бы. В первую очередь вот задача Церкви, задача пастыря — это литургия, это вот приведение души к Богу. А дела милосердия, естественно, — это такой обязательный плод, но все-таки вот не прямая цель, так если я корректно передаю такую мысль. А мне вот все-таки кажется, что дела милосердия, в отличии от любых других дел, которыми в том числе и Церковь занимается, они особый совершенно имеют статус.
Нет, я думаю, что все-таки главное дело Церкви, людей, верующих во Христа, — это Евхаристия, это совершение литургии.
Угу.
А милосердие — это как раз то омовение ног…
Хм.
…которое Господь совершил перед тем, как возлечь и преломить хлеб и дать ученикам Свою Кровь как вино. И одно без другого, мне кажется, не должно существовать. Но все-таки
кроме дел милосердия есть еще и богообщение, есть еще и общение с Богом. Это мне кажется самое важное.
Ну понятно, что отшельник там, какой-нибудь отшельник в пустыне, да, ну ему просто не на ком проявить эти дела милосердия.
Я думаю, что он молится за весь мир.
Молится, да.
И сострадает людям такой человек, конечно.
Владыка, а вот, с другой стороны, вот, скажем, я когда над этим задумываюсь просто вот применительно к себе и понимаю важность этого всего, но я понимаю, что вот даже если мне позвонит батюшка и скажет: «Слушай, надо прийти там или пол помыть, или что-то куда-то», я: ну как, у меня тут столько дел, вроде как связанных с Церковью, и так далее. А вот надо как-то находить время для каких-то, ну когда тебе будет понятно, что ты там пошел в больницу, или что-то… Вот как, как, как здесь быть?
Я могу сказать какую-нибудь ересь или что-то, что не согласуется с официальной линией, ничего?
(Смеется.) С официальной линией партии — можно. А так я думаю…
Я думаю, что для вас помыть пол, прийти в хоспис, прийти к нам в паллиатив важнее, чем все ваши другие послушания. (Смеется.) Если нужно, можно это вырезать.
Нет, нет, почему. Очень даже прекрасно.
Потому что на самом деле все эти дела…
Ну это для меня лично.
…все эти, я думаю, и для вас лично, я думаю, что это вообще. Я думаю, все это понимают. И Патриарх даже находит время, чтобы на Рождество, на Пасху. Прийти к людям, которые нуждаются в помощи, в утешении. А у него, мне кажется, дел даже больше, чем у вас, вот. И для человека это важно. Ведь вот все эти дела наши — все эти конференции, все эти отчеты, все эти переговоры, вся эта дипломатия, все эти вещи — они все очень сушат сердце. Все это сушит, все это работа необходимая, конечно, но работа очень такая… ну безблагодатная, я бы сказал, такой крест тяжелый. А вот когда ты помогаешь кому-то другому, лично помогаешь, что-то делаешь для человека, вот тут ты получаешь, тут ты отдаешь. Это та самая радость отдавать, о которой говорил Господь: «Блаженнее отдавать, чем принимать». И это нужно и необходимо для нас. Для нас самих необходимо.
Владыка, а вы думаете, что это вот любому человеку важна именно вот такая непосредственная помощь? Потому что кто-то скажет: ну а я отдаю там, не знаю, десятину; кто-то скажет: а я 30 процентов отдаю вот на эти дела.
Ну конечно. Мне кажется, это всем необходимо, мне кажется, что каждому…
То есть важно в любом случае руками сделать?
Мне кажется, что у каждого человека, который верит во Христа, должно быть два дела, должно быть исполнение двух заповедей: заповедь о любви к Богу — всей душой любить Бога, всем сердцем, всеми помышлениями, всем своим существом — и ближнего, как самого себя. Евхаристия, участие в этой, исполнение этой заповеди и любовь к ближнему, сострадательная, сочувственная любовь к тому, кто нуждается в помощи. Причем эта любовь не должна ограничиваться только ближними в узком понимании этого слова. Это не просто твой родственник, одной национальности с тобой человек, одной веры. Это любой, кто нуждается в помощи. Конечно, может быть, кому-то не обязательно приходить в паллиатив, но если встречается в его жизни такой человек, надо ему помочь. И это очень важно, мне кажется. То есть мне кажется, что
социальная работа, то, что мы так называем, — это общее дело, так же, как Евхаристия, общее дело для всех членов Церкви. В хоре может петь не каждый. Быть епископом может быть не каждый. Быть пресс-секретарем не каждый. Но эти два дела, они являются общими делами для всех членов Церкви.
Ну просто вот если человек там, я не знаю, актер, министр, не знаю, токарь, он все равно должен находить время, и он же может дела милосердия проявлять по отношению к тем, с кем он работает, с кем он встречается на улице.
Нет, ну если это многодетная мать.
Многодетная мать.
Конечно. Если есть у тебя мать-инвалид, или у тебя муж тоже нуждается в помощи, лежит в больнице, конечно, надо ему помогать. Но если у тебя есть свободное время…
А если нет?
Если нет.
Или так не бывает?
Тогда надо работать с этим самым тайм-менеджментом своим, как-то находить его.
Хорошо.
Все-таки есть же выходные.
НАДЕЖДА
Наверное, не все знают, может быть, даже мало кто знает, что вот в юности, в молодости вы были связаны с искусством и с театром. (Смеются.) Ну это так. У меня вопрос: как вы считаете, искусство способно дать человеку надежду?
Искусство может, конечно, помочь человеку… ну как-то немножко его направить в какую-то нужную сторону. Но может дать и ложный ориентир. Искусство — это такой попутчик. Вот как были попутчики в XX веке у наших там… попутчик. Оно может быть попутчиком. В конце концов, искусство, оно ограничено, оно кончается, искусство. Оно на каком-то этапе уже перестает удовлетворять запросам человека. Нет таких произведений искусства, ну за исключением, может быть, икон, за исключением может быть Евангелия, да…
То есть религиозное искусство все-таки отдельно?
Ну не все тоже искусство религиозное — но там может это быть, которое могло бы адекватно выразить то, к чему нужно стремиться, и быть таким постоянным маяком, быть постоянной целью. Искусство — это все-таки не компас. Там прекрасные…
Не компас?
Не компас. Ну вернее, в каком-то смысле, если нет настоящего компаса, если нет веры в Бога, если нет общения с Богом, если нет Евангелия, если нет Евхаристии, конечно, искусство может правильно как-то направить человека. Но таким искусством, такой театр был у нас в начале XX века, скажем, когда считалось, что это храм искусства, что там высокие идеи. Ходить в театр — это было, так сказать, ну как-то принадлежность к какому-то высшему, так сказать, чему-то. Это было для людей важнее, чем храмы, чем Евхаристия. Ну такой был период, наверное. И так может, так может быть с любым искусством. И книги, наверное, такие могут, кино даже может быть таким тоже искусством, конечно. Оно может иногда помочь. Но это очень опасное… опасно очень доверяться целиком. Надо критически относиться обязательно к этому и пользоваться этим, но все-таки иметь какой-то другой ориентир.
А вот как попутчик ведь искусство может ставить важнейшие вопросы, да. Вот скажем, у Шекспира. Мне просто говорили, что вы очень хорошо знаете «Гамлета» и причем на английском. Вот когда он говорит в знаменитом монологе: For in that sleep of death what dreams may come, When we have shuffled off this mortal coil (англ.) Какие сны, какие…
Ну да: «какие сны в том страшном сне», да, конечно.
Это же главный религиозный вопрос, да: «Какие сны в том страшном сне приснятся» — в пастернаковском переводе, да.
Что будет после смерти, что будет после смерти.
Да, «когда покров земного чувства снят».
Может быть, там будет еще хуже, ну да.
А вы правда знаете наизусть гамлетовский монолог?
У нас была замечательная учительница, она еще жива.
В школе, да?
Учительница английского языка и литературы, которая в классах, где она преподавала, заставляла всех учащихся знать наизусть монолог Гамлета. Мы с ней недавно встретились.
Так. И она проверила вас?
Она, у нее умер муж, и так случилось, ну как-то вот неожиданно совершенно — я его отпевал в моем викариатстве, в храме, где я нахожусь.
То есть это не она вас попросила, просто так произошло.
Да, как-то вот удивительным образом. Я был очень рад что могу оказать услугу. Я знал его, ее мужа, давно очень, как и ее тоже. На моих глазах они познакомились, она сначала была незамужней, когда была в школе. И она меня спросила. «Аркаш, — говорит, (так меня раньше звали), а ты помнишь, ну почитай». Я стал читать. Она говорит: «Что это ты с ошибками читаешь! Ты, — говорит, —забыл, там не так». (Смеются.) Такая замечательная, Нина Самойловна ее зовут. Очень хорошая учительница.
Владыка, вот вы вот этот свой опыт взаимодействия, соприкосновения с театром, вы его сейчас как оцениваете, вот из сегодняшнего дня? Ну я понимаю, что так должно было быть, что Господь провел через это, значит, нужно. Вот скорее как что-то, что вам это… оно было вашим попутчиком?
В какой-то момент было. Помню замечательный спектакль Эфроса «Мальчики», такой был спектакль по Достоевскому.
По Достоевскому «Братья Карамазовы».
Розов, помню, написал, эту пьесу написал. Там был такой момент, когда актер выходил на середину сцены и говорил: пойдем куда-то там, как-то так. У меня прямо слезы были на глазах. Такой был замечательный момент. Ну, театр Любимова мне не нравился. Ну вернее, сначала привлек меня своей клоунадой какой-то. Но это цирк какой-то, а не театр. Товстоногов, конечно, Смоктуновский, ну конечно, это все как-то, туда как-то помогает.
Ну то есть это какая-то страница, которую вы давно перелистнули.
Я рад, что я ее перелистнул.
Понятно.
И жалею, что я очень задержался на ней долго.
Задержались. (Смеются.) Спасибо. Владыка, а вот если вернуться к ситуации, о которой мы начали в первой теме говорить, о ситуации страдания, когда они посылаются человеку. Вот, а бывает — ну мы в теме «Надежда», да, напоминаю, — когда человек теряет надежду и когда он не задает себе вопрос: «Для чего мне это?», да, а он, либо он кричит: «За что!», либо он кричит: «Вот как ты это допустил!» Причем это может быть и верующий человек, да.
Да, конечно.
Вот в такие моменты безутешного можно утешить как-то?
Ну понимаете, у нас есть ложные представления об этом мире. При чем у верующих даже людей. Вот я встречался с нашими учащимися как-то в училище и говорил им о литургии. И говорил: «Литургия — это явление Царства Божия». И спрашиваю:
«Хотели бы вы, девочки, вот сейчас вот оказаться в Царстве Божьем?» Они говорят: «Нет, батюшка, мы пожить еще хотим».
Чуть-чуть подождем.
«Хотим пожить еще немножко».
Ну-у, Августин хотел, а вы хотите, чтобы девочки… (Смеется.)
Да, я понимаю. Ну вот это такое ложное понимание того, что в этом мире нужно задержаться. Ну если Господь выводит из этого мира, выводит болезнью, страданием каким-то, лишает тебя каких-то привилегий в этом мире, там слом карьеры или еще что-то такое, Он же тебя выводит в Царство Небесное. Что же плакать, когда тебя освобождают из тюрьмы!? Что же плакать, когда тебя выписывают из больницы?! Надо радоваться. Вот мне кажется, вот не хватает этого понимания у человека, у которого нет надежды того, что будет потом, куда он идет. Вот взять заповеди, данные нам для достижения блаженства. Там же удивительный есть момент в этих заповедях. Начинается с того, что человек должен делать: быть нищим духом, плачущим о грехах, быть кротким, быть любящим, иметь чистое сердце, быть миротворцем. И вдруг: блаженны, когда вас выгонят; блажен, когда будут гнать; блажен… Вот конец, вот конец. Все-таки ну как бы мы здесь хорошо ни жили, на этом свете, ну это же мир, прогнивший грехом. И нельзя… конечно, в детстве, может быть, ну несовершенным людям не надо, я не знаю, может быть, мы зря говорим это всем нашим телезрителям. Они скажут: ну вот батюшка нас зовет к самоубийству там, или скажет, уже сказал, что уже…. Конечно, ну мир — это путь, это путь. И поэтому, когда тебя из этого мира выводят — а скорбь, она выводит из этого мира, —ну надо с этим соглашаться, не бояться этого.
ТЕРПЕНИЕ
Я, собственно, хотел начать вот с такого частого вопроса: а как совместить то, что есть Бог, Который есть любовь, и страдания? И я знаю, что вам его много раз задавали, и я вот от чего хотел оттолкнуться. Вы как-то сказали, что — ну я как запомнил, да, — что не нужно искать какое-то рациональное объяснение, потому что его нет, потому что зло — это всегда катастрофа, всегда искажение, а нужно стоять у Креста, встречаясь со страданиями, и вот через это их воспринимать. А что вот, у меня собственно вопрос такой: а что значит «стоять у Креста»? Вот когда ты сталкиваешься с тем, что не укладывается в голове — вот маленькие дети умирают, катастрофа, самолет падает там.
Ну вот у меня умерла жена. Для меня это была страшная трагедия. Ну вот кто потерял близких людей, они понимают, не буду это рассказывать. Ну всё, мир стал черно-белый, еда потеряла свой вкус и так далее и тому подобное. И вот одна женщина — матушка, жена священника — подходит ко мне и как-то вот с такой любовью, с таким каким-то сочувствием мне что-то такое говорит очень простое и смотрит на меня — и мне становится легче. Я вижу, что она сопереживает, сострадает мне. И когда ты помнишь о Христе, который пришел, чтобы сострадать нам вот на Кресте, Он же не просто так взошел на этот Крест, Он сделал это из любви к нам. Это акт Его любви, это действие Его любви. И как-то вот, ну как-то понимаешь: вот Он со мной страдает. Не я стою у Креста, а Он в моем страдании присутствует Своим Крестом. Вот, мне кажется, как-то становится легче. И ты понимаешь, что если Он прошел это, то Он тебе тоже поможет это пройти. Не будет сверх силы то, что Он попускает тебе как некое страдание.
А вот страх перед страданиями, которые человек испытывает?
Очень часто это бесовское, очень часто: а вот сейчас самолет упадет.
Угу.
А вот я сейчас раком заболею; а вот сейчас там что-нибудь случится; а вот начнется, говорят, война через два месяца начнется после смерти старца Ефрема; а вот сейчас начнется мировая война; а вот сейчас еще что-то… Ну это чисто бесовское, ну чисто бесовское. Со мной тоже такое бывало, я тоже так думал. Ну вот пока я живу, ничего не случилось пока. Двум смертям не бывать, одной не миновать, что же этого бояться-то, когда не пришла. Надо жить сейчас. Как вот мне говорил один психолог — женщина, очень хорошая женщина, очень хорошая. Она работает с родителями детей, больных онкологией. И когда мама начинает ей говорить: «Как же так, мой ребенок заболел, какой ужас, почему это, за что мне?!» А она говорит: «Зачем вы его хороните? Он же жив. Его надо лечить. Молитесь Богу. Зачем вы его хороните». Когда мы таким образом принимаем вот эти мысли, ну как бы уже всё. Вот случится, и я не знаю, что делать, я погибну, вот оно… зачем? Этого же нет. Такая замечательная песня есть про овечек.
Про овечек?
Про овечек. Там сидели две овечки, над ними солнышко светило, было небо синее, травка, там что-то еще такое. И вдруг они заплакали навзрыд и стали говорить: «А ведь скоро осень придет и будет холодно и ужасно». Конечно, тут есть, может, другая крайность. Как у Пушкина в его «Дон Жуане», там Лаура, такая очень нехорошая женщина, ей говорят: ну ты же умрешь в конце концов… то есть ты постареешь, как ты будешь жить тогда?
Да.
Она говорит: «А что мне до того. А вот где-то там в Толедо там гром, там гроза, а у нас солнышко, у нас все». Это, конечно, тоже неправильно. Ну где-то между этим, одним и другим, нужно найти какую-то правильную позицию и, конечно, не допускать этих мыслей… лишних. Надо уметь распознавать, что там в мыслях откуда приходит. И радоваться тому, что есть.
А вы чего-нибудь боитесь?
Если честно — да.
Я боюсь боли. Боли я…. У меня жена тоже боялась. Она не боялась умирать, а очень боялась, что будет… Ну и как-то Господь ее не посрамил, она совсем немного страдала.
А вот страх…
Господь избавляет. Вот как-то я боюсь, но я надеюсь, что Господь не попустит мне больше, чем я могу вынести.
А страх Божий — для вас это что? Это страх чего?
Ну что вот я приду на Суд Божий, а Господь мне скажет: ну что ты все болтал-то, по телевизору выступал, там еще что-то рассказывал, делал вид, что такой добрый. А ты-то сам-то кто? У тебя в душе-то сколько, смотри, грязи и гадости! Вот это мне все покажет: я же тебя для другого и сколько я тебе дал-то, сколько ты видел святых людей, а как ты жил! Ну страшно.
А вот еще раз про современный мир, мы уже говорили с вами, который, действительно, очень часто, ну очень часто и все чаще, мне кажется, я вот со студентами это вижу, начинаешь говорить о каких-то, казалось бы, общепонятных вещах — Ну мы всегда говорим, что христианство сформировало нашу культуру, систему ценностей, представление о добре и зле, и даже неверующий человек находится в этих координатах, — и ты вдруг понимаешь, что — не находится. И вот я часто этот пример привожу, как один американец, он был католиком, потом стал православным, и он написал, что в современном мире диалог между верующим и неверующим, например об абортах, он невозможен, потому что точек соприкосновения нет. Вот вы в своем служении церковном сталкиваетесь с этой проблемой?
Вот вы знаете, мой милый, не то что между верующим и неверующим, а между верующим и верующим.
Верующим, да, да, да.
Вот как. При чем люди сейчас, у них нет, у людей нет сформированного мировоззрения. У них есть какое-то сложившееся мироощущение, которое они сами даже не осознают. Они себя не знают. Познай самого себя — это задача не для современных людей. Они живут в мире каких-то иллюзий, в каких-то неправильных представлениях.
А почему?
Ну вот семья. Вот девушки хотят замуж, как они представляют себе семью: любовь, уважение…
Цветы, мороженое.
…цветы, кофе в постель, там не знаю, что там еще.
Булочки.
Чтобы родить, так сказать, безболезненно. А, ну жизнь-то — это жизнь. Это все равно как о войне почитать какие-то героические стихи и песни пропеть про войну, и потом оказаться на войне. Ну это же разные вещи совершенно.
Разные вещи совершенно.
«И теория, и практика, — говорил преподобный Амвросий Оптинский, — отличаются, как дамы на балу и медведь в лесу». И вот у людей представление об этой жизни, как о даме на балу. Им кажется, что они все понимают, все. Тоже и в этом мире. Ну как, один считает, что в государстве все должно быть справедливо, полицейский должен быть добрым, мужественным, смелым, честным.
Бесплатно работать.
Тюрьма — это исправительный дом, там людей должны исправлять. Больницы — там, где должны лечить. Но в больнице есть внутрибольничные инфекции, хирург может ошибиться и отрезать что-нибудь не то — легко, ну он же человек. И в тюрьме тоже, там тоже, оказывается, редко кто исправляется. И по законам, которые декларируются, тоже не всегда далеко живут.
Ну жизнь — это есть жизнь. Она испорчена грехом.
ПРОЩЕНИЕ
Один мой гость в священном сане, он сказал, что у священника, как у хирурга, есть свое кладбище.
Ой, ужасно! Это ужасно!
Вот вы с этим согласны?
Ужасно, вот это вот, вот это вот, что опытность врача определяется размером кладбища, на котором похоронены его пациенты. Если применить это к священнику, то это же не кладбище, это область ада, где находятся его духовные чада. Ужас!
Ну ужас в смысле — это так или?..
Ну наверное, в какой-то степени это так.
Да?
Ну, наверное… Ну я, ну то есть, ну как, ну я надеюсь, что Господь покрывает ошибки священника. Все-таки, наверно, не так, как с врачом. Бог позволяет, может быть, сделать ошибку врачам, потому что это не убивает душу. А у священника все-таки наверное как-то это ошибка исправляется самим Богом, если это вредит душе. И все-таки… хотя горе тем, кто соблазняет, лучше, чтобы им повесили мельничный жернов на шею, чтобы они потопили в глубине… когда священник соблазняет своим поведением, своим каким-то неправильными советами, когда он много на себя берет, — это ужасно просто, это ужасно. Я боюсь очень, не знаю даже, как там будет все, но вполне может быть по самому плохому сценарию. Поэтому священники, конечно, — это служение, конечно, очень. Очень много анекдотов про епископов, как их в Царстве Небесном, как их там мало. Это, конечно, к сожалению, наверное, все-таки отчасти так.
Владыка, а вот, ну священник же поставлен в эту ситуацию своим служением. К нему приходят с неразрешимыми какими-то вопросами, причем зачастую не связанными с духовной жизнью, но все равно, постоянно. А вот вы часто возвращаетесь к тем советам, которые вы дали, и думаете: вот надо было, может быть, не так поступить? Вот у вас как это?
Ну конечно…
Да?
…когда что-то не получается, когда человек делается хуже, когда он, у него не получается исправиться, конечно, я думаю, каюсь в этом, прошу прощения у Бога.
А вот…
Я знаю одного епископа замечательного, у которого был целый синодик, и он после смерти завещал особенно молиться о людях, которые там значатся. Наверное, это были те люди, которым ему не удалось помочь. Я не думаю, что он им сильно навредил, но помочь не смог.
А вот здесь у вас есть что-то такое, что вы считаете для пастыря непростительным в ситуации, когда испрашивают совета? Что недопустимо для священника?
Ну недопустимо, наверное, настаивать на своем, я думаю. Ну как, хотя иногда ну нужно, ну как, настаивать на своем нужно, недопустимо насилие, наверное, над волей человека. И недопустимо… Старец Паисий говорил, что если говорить о священнике, то главное качество священника — это отсутствие сребролюбия. Он говорил, что,
если священник не будет уметь говорить проповеди, выступать на телевидении, если он будет обладать плохим голосом и петь не в тон, но если он будет не сребролюбив, его будут люди любить, будут о нем молиться, и по их молитвам ему Господь даст все остальные таланты. А если он будет сребролюбив, то все его таланты, они будут ему во вред.
Интересно, интересно очень. Неожиданно сказал.
Ну почему? А наши русские, великий наш русский поэт, он на это качество же указывал в своей известной сказке.
Да, да, да. Да. Владыка, а вот когда не следуют тем советам, которые вы с помощью Божий даете, вы как поступаете?
Ну, когда я был молодой священник…
Да.
…я очень был недоволен. Теперь я благодушествую и отношусь к этому совершенно спокойно.
Ну а вы как-то вот…
Конечно, когда человек делает какой-то страшный грех, а вот речь об этом идет, когда он не меня не слушает, а не слушает Евангелие, не слушает Христа, конечно, это бывает всегда очень печально. Ну вот что поделаешь.
Ну а как это сказывается на вашем общении с человеком?
Ну если он меня о чем-то спрашивает и делает все время по-другому, я говорю: «Ну послушай, ну что, собственно, ты приходишь-то? Ну не надо тебе, так не надо. Я же не заставляю тебя. И не надо тогда приходить». Общаться по-дружески, ну у меня… просто время коротать, просто так о чем-то беседовать ну смысла нет, наверное, никакого.
А вот я часто задумываюсь над этим, и это, кстати сказать, среди мирян такой, ну обычный, наверное, разговор. Тут какая-то дама замечательная написала где-то, что, какой у нас милосердный Бог. Он 20 лет выслушивает мою одну и ту же исповедь. Я ей сильно позавидовал, потому что, мне кажется, что у меня исповедь с каждым разом все, так сказать…
Все хуже и хуже.
Да. Но это вот ощущение человека, который подходит к вам, к священнику. А вот когда вы человека накрываете епитрахилью и вы, в общем, при этом очень хорошо понимаете, что он через 2-3 недели, через неделю, через месяц придет с тем же самым.
Нет, Володь, я тут думаю, надо по-другому действовать. Потому что, конечно, если говорить об общих грехах, то можно написать 8 страстей основных и не трудится их переписывать, каждый раз приходить…
С бумажечкой. (Смеется.)
…и: батюшка, я тоже в этом же грешен. И все.
Да, да, да.
Исповедь бывает разная. Бывает исповедь человека, который первый раз исповедуется. Это могут быть и слезы, и раскаяние, и обещание не повторять тех грехов, и изменение всей жизни человека.
А исповедь регулярная, она имеет такой… педагогический какой-то смысл. Когда человек приходит и рассказывает мне о грехах, скажем, то я говорю: «Хорошо, вот ты гневаешься. Ну ты, наверное, не можешь не гневаться. Ну ты хотя бы с мамой-то, ну не гневайся на маму. Ну если гневаешься, то не показывай хотя бы, да. Вот это, вот с этого начнем с тобой». И когда приходит он еще раз, я говорю: «Ну как, получилось у тебя или нет?» —: «Не получилось». — «Слушай, ну тогда тебе нельзя причащаться. Ну как можно на маму гневаться? Давай ты еще три дня хотя бы не гневайся, приходи».
То есть как надо работать с ним. Вот задача, мне кажется, священника.
Вот задача каждой исповеди, такой вот педагогической, когда человек приходит на исповедь не после долгого перерыва, не первый раз, ну а как обычно перед причастием или еще как-то, задача — найти все-таки ту точку, которой можно что-то изменить.
ЛЮБОВЬ
Вот удивительная вещь, опять же в современном мире, про который мы с вами сегодня много говорили. Ведь с тем, что Бог, вот наш тезис евангельский, что Бог есть любовь, его ведь все радостно всегда принимают, да. Говорят: ну конечно, конечно Бог — любовь, конечно, замечательно. И при этом это понимание любви, оно какое-то такое своеобразное. Это какое-то принятие человека со всеми его желаниями. Любое желание человека как достаточный аргумент для того, чтобы он сделал то, чего он желает, и так далее и тому подобное. Вот как вы думаете, вот чем фундаментально понимание любви наше, евангельское понимание любви, отличается от того, что?
Ну во-первых, Бог есть любовь — самое главное в этом не то, что Бог любит нас, а то, что в Нем, Он в своем существе есть любовь. Что в Троице Отец, Сын и Святой Дух соединены одним существом, и вот между Ними есть любовь. Он есть любовь, в Самом Себе любовь. Это во-первых. И конечно, исходя из этого мы знаем, что Бог каждого из нас сотворил так, чтобы мы друг к другу относились так, как соотносятся Лица Святой Троицы. То есть какая-то высокая совершенно планка, недостижимая для нас, к которой мы должны стремиться. Вот это нужно обязательно помнить. Ну еще, опять же, если вспоминать Гамлета, там такие есть слова: «Из жалости я должен быть суровым. Несчастья начались, готовьтесь к новым». (Смеются.) Ну это как шутка. Конечно, конечно, это шутка. Но тем не менее все-таки ну как не быть маме строгой к своему ребенку, если он не уважает папу? Ну как…
Да, надо быть строгим.
Надо быть строгим в этом смысле, надо научить его уважать папу. Ну как можно быть не строгим к человеку, который совершает преступление, губит себя самого? Как быть не строгим врачу к больному, если он своими действиями вредит своему здоровью. Ведь Бог же видит нас, Бог любит нас не такими, Он любит в нас, вернее, то, вот что Он вложил в нас. И Он вложил некую драгоценность, некое богоподобие вложил. И он хотел бы, чтобы некое богоподобие, оно сохранилось. Когда мы его уничтожаем, Он строго с нас спрашивает ради любви к нам. Есть же два «я»: есть «я» и есть «я». Есть «я» — злое во мне. В апостоле Павле было две, два человека жило, как он сам про себя говорил. И в каждом из нас это есть. И Бог любит в нас это доброе, что есть. А это злое иногда терпит, иногда исправляет, иногда наказывает, иногда вразумляет. Помогает нам очиститься от этого. Ну пришел человек, выпачканный в грязи. Ну мы его любим, но грязь-то — это не человек. И вот зло, которое в нас, — это часто действие дьявола. Как можно любить дьявола? Как можно любить вот эту гадость, эту мерзость? Это же не я, ее нельзя любить. А человек думает, что это он, в нем эта грязь, и он такой свинюшка. А эта грязь въелась в него, и он думает, что это он. Но это же не он. И обижается. Его хотят помыть, ну как ребенок, а он не хочет мыться.
Ну то есть в этом основное отличие, да, вот в понимании современном, которое — вот любите меня таким, какой я есть.
Я думаю, что в этом. А кроме того, еще современное понимание любви — это обязательно чтобы была взаимная любовь: я люблю, меня не любят, я не понимаю как. А Господь нас привел к любви, когда мы должны любить, тех, кто нас не любит и быть… и любовь как жертва.
Не просто дать конфетку, не просто поделиться деньгами, не просто сказать доброе слово, не просто человека пожалеть, а отдать всего себя.
«Нет больше той любви, как если душу положу за други своя» — вот высшая любовь, когда мы должны быть готовы умереть ради другого. И надо сказать, что только эта любовь спасает мир. Если бы Господь не умер на Кресте, все Его слова и чудеса, которые Он совершал, они не изменили бы мир. Мир изменила вот эта Его крестная Жертва. И другого человека…
И Воскресение, конечно.
И Воскресение, ну нет, ну конечно. Нет, ну да, ну оно как бы, ну потому что Бог не может умереть. Ну вот пройдя через эту крестную…
Ну как исправление природы, да?
Да.
Смерть.
Но через крестную жертву обязательно. И есть такой рассказ у Чехова замечательный, где он рассказывает, где говорится о том, как один интеллигент, который в театр ходил, кстати говоря, он помог одному бездомному, одному бродяге. Бродяга пришел, обманывал его, что-то такое. Он сначала хотел помочь, потом выявил этот обман и решил дать ему не рыбу, а удочку.
Да.
Сказал: «Знаешь, что, ты вот иди поработай, поколи дрова, тогда я дам тебе денег». Тот позвал кухарку: «Дай ему топор, и пошли колоть дрова». Он слышит: дрова рубятся, он пришел, поколол, дал ему денег. И ходил много раз к нему этот человек. И в конце концов он получил место. И он его встретил в театре. Наверное, для Чехова это было уже вершиной, так сказать, реабилитации человека, он приобщается уже к культурной, ну на галерке билет какой-то покупает. Этот господин там в партере или в ложе. И он, очень довольный, говорит: «Ну как хорошо, говорит, что я тебе тогда помог»... Он говорит: «Да вы-то мне помогли, но больше мне ваша кухарка помогла».
(Смеется.)
Как?». — «Ну как, в первый раз она же мне дрова колола. И второй раз она колола, и третий раз колола. Уж потом мне неудобно стало, я сам стал колоть». Вот такая любовь. Вот. И не всегда дождешься, когда сам начнет колоть дрова. Мне кажется, эта любовь тоже спасает. И когда человек жертвует собой ради других, он спасает. Вот наш Георгий, который спасал бездомного…
Да. Великанов.
Великанов. Он же…
Удивительный человек.
Он же его спас. Хотя и бездомный скоро умер.
Умер.
И потом мне даже кажется, знаете, как, может, я ересь и скажу какую-то. Вот Страшный суд. Вот там мучитель, который там страшно мучил какого-то мученика. И мученик там скажет: «Господи, я его прощаю. Прости и Ты его». И я думаю, что Бог простит.
Владыка, а вот нет какого-то противоречия как минимум логического, а может быть, в жизни его нет, ну на уровне вот, когда мы говорим о строгой любви и о жертве. Потому что иногда… ну скажем, у меня был гость, он говорит: у него есть брат, который уничтожает себя, по мнению этого гостя. Он перепробовал всё, но брат никак не откликается ни на что и продолжает губить свою жизнь. И он говорит: «Все, что я могу — это его просто любить». И вот этот путь, который он избрал, вот он так выразился: «И любить этот его путь. И я больше ничего не могу». Вот как с этим быть?
Я думаю, что могут быть разные решения этой проблемы. Церковь когда кого-то анафематствует, она являет человеку последнюю, крайнюю степень любви, с любовью отвергает его, чтобы он понял, что, лишившись общения церковного он, может быть, тогда осознает свою неправоту. Это тоже есть любовь. И поэтому в этой строгости тоже есть любовь, конечно.
И в наказании есть любовь.
Вот как их соразмерять, тут конечно могут быть разные ошибки и разные манипуляции, и наш греховный разум, он может найти способ оправдать свою жестокость и оправдать свое бессилие и равнодушие. Вот каждый должен как-то для себя решать. Эта проблема, она не может быть выжжена какой-то формулой, мне кажется. Каждый раз надо заново ее решать. И вообще жизнь — это такая вещь, которую каждый день нужно заново ее переосмысливать, каждый день нужно заново учиться находить правильный путь такой.
Финал у нас. Вот этот, который пунктуационный
Запятую, да?
Пунктуационный. Или точку можно, что вам больше нравится. Простой вопрос, мне кажется, владыка. Вот представьте, что вам приносит пожертвование человек, и вы убеждены в том, то есть вы не то что убеждены, вы знаете, что вот эти средства, которые он принес, они, как принято говорить, нажиты нечестным, может, даже криминальным каким-то путем. «Принять нельзя отклонить» — где вы поставите запятую?
Можно выйти за рамки этого предложения сначала?
Все, что… любые.
У меня был такой случай в 90-е годы. Пришел человек, у него лежал какой-то его товарищ в реанимации, подстреленный кем-то, и он принес деньги — на храм. И я ему сказал: «Я не могу взять на храм, но можно взять на детский дом». Поэтому вот здесь запятую можно ставить по-разному…
(Смеется.)
…в зависимости от того, надо уточняющее какое-то предложение. (Смеется.)
А почему, владыка, вы, кстати, не взяли на храм, но взяли на детский… То есть вы хотели ему сказать, что
Ну на храм нет, жертв, деньги блудниц не могут быть жертвой, деньги злодейские не могут быть на храм. А если он хочет помочь детям каким-нибудь, ну хорошо, детям можно помочь. Может, там ему на градус меньше будет температура в котле. (Смеются.)
Спасибо, спасибо! Это был грешный епископ и дедушка, владыка Пантелеимон.
Фотографии Владимира Ештокина